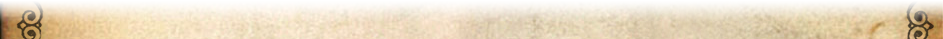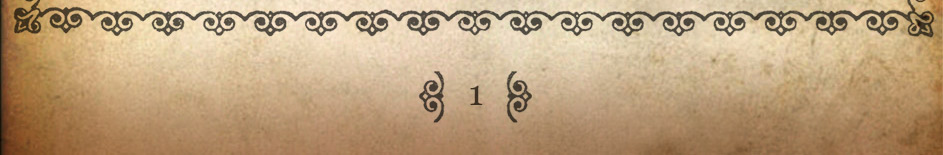Грек — майор Алфераки: деятельность в Греции и в России

Немало написано о выдающихся греках, внесших заметный вклад в историю Греции и России. И многие знают об их личных заслугах перед Грецией и Россией, помнят их имена. Вместе с тем, судьбы тысяч переселенцев-греков, получивших убежище в нашей стране, редко попадают в поле зрения историков, так как они не совершили общественно важных, государственных деяний, хотя часто и инициативно выполняли свои обязанности в мирных и боевых условиях. Их имена практически отсутствуют в архивных документах, не упоминаются в литературных источниках, хотя судьбы и жизни данных людей интересны и поучительны, во многом характерны для своего времени. Их практические дела зачастую не забыты, до сих пор вызывают уважение и преклонение. В рамках обнаруженных источников есть возможность вспомнить одного из них…
5 марта 1770 года в расположение российского Кексгольмского пехотного полка в Мореи молодым греком Дмитрием Ильичём Алфераки из города Мистра, выходцем из «…старшинских детей Амморейской провинции…» был приведен отряд в двести добровольцев для борьбы с турками, который был набран, вооружен и содержался на его средства.
Решением генерал-аншефа графа
Боевую закалку отряд Алфераки получил в экспедициях на Восток под командой капитана Баркова. В его сводном отряде числилось 600 русских воинов и 500 майнотов-добровольцев. В ходе данного похода были взяты Пассава и 8 (19) марта 1770 года, Мизитра (Мистра) — турецкая столица Мореи, родной город Алфераки. Затем боевая группа Баркова, получив значительное подкрепление, из числа восставших греков-маниотов, количество которых возросло до 8 тысяч человек, двинулась на Север и осадила Триполис, но была разгромлена под его стенами подошедшими турецкими войсками.
После ликвидации русской базы в Наварино, отряд Алфераки в составе греков-волонтеров Албанского (Греческого) войска был переправлен на остров Парос в порт Ауза (Науса). Отсюда в качестве корабельного десанта на российских боевых кораблях греки участвовали в боевой операции по овладению островом Лемнос и турецкой крепостью на нём, осада которой продолжалась два месяца. Несмотря на то, что Лемнос являлся важным для российского флота стратегическим пунктом вблизи от входа в Дарданеллы, его, к сожалению, удержать не удалось из-за активных и хорошо подготовленных действий превосходящих сил турок. Участвовал Алфераки со своим отрядом и в других операциях, где приобрел серьезный боевой опыт, проявил себя как храбрый, ответственный и умелый командир волонтерского подразделения.
Как свидетельствуют архивные документы, особо отличился капитан Дмитрий Алфераки со своим отрядом 1 ноября 1771 года, в ходе десантной операции на остров Мелетини (Митилени), когда российская эскадра в составе 6-и линейных кораблей, 9-и фрегатов и 2-х бомбардирских кораблей, под общим командованием генерал-аншефа графа
Алфераки так описывает в письме к министру внутренних дел князю
Значительно позже, в октябре 1784 г., за свои боевые заслуги
Боевые действия русского флота и высаженного им морского десанта на остров Мелетини (Митилени) в Эгейском море были высоко оценены не только флотским и армейским командованием, но и императрицей Екатериной ΙΙ. По высочайшему повелению морские сражения при Хиосе, Чесме, Мелетини (Митилени) были увековечены ныне всемирно известным памятником — Чесменской колонной, воздающей славу Русскому военно-морскому флоту и его победам. В царском селе на Большом пруду по проекту А. Ринальди, по воле императрицы установили «…Чесменскую колонну, изготовленную из светло-розового олонецкого мрамора и увенчанную бронзовым орлом, раздирающим турецкий полумесяц. Ее пьедестал украшали бронзовые барельефы с аллегорическими изображениями на темы морских сражений при Хиосе, Чесме и Мелетини (Митилени)».
После окончания войны, ознакомившись с рескриптом Екатерины II от 28 марта 1775 года, провозглашавшим в 21-м пунктах серьёзные льготы и привилегии воинам-волонтерам, изъявившим желание уйти от преследования турок к единоверцам в Крым, на новое местожительство, Алфераки с частью воинов своего отряда, пожелавшими переселиться в Россию, погрузились на суда, готовые к переходу в Чёрное море. На кораблях российского флота, в составе воинов Албанского (Греческого) войска, они пребывают в Крым, в крепость Керчь, а затем размещаются на постоянное базирование в более современной и надежной в боевом отношении крепости Еникале.
Капитану Алфераки и его людям, также как и всем воинам-переселенцам и их семьям, пришлось перенести значительные трудности и лишения в ходе обустройства на новом месте жизни. Здесь сразу же исключительно остро встали проблемы получения жилья, обеспечения продовольствием и топливом, строительными материалами, а также обещанными наделами сельскохозяйственной земли, которой в районе Керчь-Еникале на всех просто не хватало.
Исходя из реальной обстановки и, прежде всего, из «…малой округе земли», командование крепостей стало рекомендовать архипелагцам переселяться в район города Таганрога. Вскоре к грекам-переселенцам с данным предложением вынужден был обратиться и генерал-майор Борзов — комендант Керчь-Еникале, в ответ на обоснованное возмущение, на многочисленные и справедливые жалобы и заявления прибывших греков о невыполнении в полном объеме рескрипта императрицы. Он заявлял прибывшим воинам-грекам, что «…здесь им жить не следует, а чтоб шли в Таганрог и там селились».
Данная идея, всесторонне обоснованная, была доложена светлейшему князю Г. А. Потёмкину-Таврическому, а им доведена до Екатерины II. В конце концов, было получено Высочайшее согласие — разрешить желающим воинам Греческого войска переселение в район города Таганрога и размещение их с семьями в поселке, освободившемся после передислокации казачьего полка.
Указанное решение было доведено до воинов Греческого (Албанского) войска, находящихся в Керчь-Еникале. Более того, генерал-фельдмаршал Григорий Потёмкин в своем ордере письменно разъяснил греческим воинам, что «…Если кто по собственному произволу поселиться там (в Таганроге — Ю. П.) пожелает, то получит из казны дом, и в образе жизни своей теми же выгодами и вольностями пользоваться будет, как и прочия поселившиеся в Керчи и Еникале».
Данное официальное заявление послужило веским основанием для принятия решения частью архипелагских греков из состава Греческого войска о переселении их по «…собственной их воле» в Таганрог. Среди них был и капитан Алфераки с частью своих людей.
Исходя из доклада князя Потёмкина-Таврического императрице Екатерине ΙΙ от 9 июля 1776 года, уже к лету 1776 года количество греков, переехавших из Керчь-Еникале в Таганрог, резко увеличилось и их число на тот период составило: «…при Таганроге со штаб и обер-офицерами 43, не служащих 15, а всего 58 человек». По состоянию же на сентябрь 1779 года «…в Таганроге числилось 288 бывших воинов Албанского войска», не считая членов их семей.
Действительно, в районе города Таганрога, как это и было обещано, всем выделили пригодную для сельскохозяйственного производства землю, выдали денежные ссуды. Все это позволило грекам быстро и обстоятельно обжиться. Они отремонтировали предоставленные жилища, некоторые построили новые дома, привели в порядок церковь, развели сады и виноградники, развернули местную торговлю. Была создана небольшая верфь, начато строительство рыбацких и мореходных торговых судов. Греки активно занялись не только сельским хозяйством, но и рыболовным промыслом, расширили морские торговые связи. Многие, учитывая свой почтенный возраст и свое здоровье, невозможность дальнейшей службы, вышли из состава воинов Греческого войска и, записавшись «…в купечество и мещанство», занялись сельским хозяйством, торговлей, рыболовством.
Как вспоминает Дмитрий Алфераки, он запросил «…к пропитанию себе участок земли в Ростовском уезде на речке Миусе и привлек на оный свое семейство из жены и шестерых детей состоящее. Ранами и старостью обременён будучи, он обратился к земледелию».
Проявив инициативу и незаурядную энергию, капитан Алфераки «…заселил людьми взятую землю и удобрил её, обретя из дикой в хлебородную». Активно работая на ней всей семьей, не жалея сил и времени, он создал крепкое, прибыльное хозяйство, добился успеха, стал получать доход и «…сим соделав посредственное состояние, отдал двух своих сыновей на службу Ея Императорского Величества, и приготовляю к тому же и третьего».
Данный Ордер
Видимо, поэтому Уездным дворянским собранием Дмитрий Ильич избирается Ростовским уездным предводителем дворянства, а по окончании срока пребывания вновь избрался на эту должность, уже на второй срок. Очевидно, что это в полной мере подчеркивает доверие к нему окружающих, его признанный успех в общественной деятельности в уезде, в решении различных «дворянских и общеместных дел», показывает его деловые и организаторские качества, заслуженный деловой авторитет.
Славное боевое прошлое Дмитрия Ильича, его активное участие в вооруженной борьбе за свободу и независимость своей угнетённой Родины, преданность России, доказанная многими боевыми делами, смелость и решительность, целеустремленность, хозяйственная сметка, бережное отношение к земле, умение общаться с людьми, руководить ими — всё это, и многое другое, сформировало его высокий авторитет не только среди товарищей по оружию — греков, но и окружающих людей, землевладельцев. И переселенцу Алфераки в течение трёхлетнего срока пребывания на должности приходилось решать различные местные вопросы, незначительные судебные дела, исполнять приговоры судебных органов. Честность и принципиальность майора получили в уезде всеобщее признание, в том числе и у привилегированного сословия — дворян.
Сам
Сколотив напряженным сельскохозяйственным трудом небольшое состояние, Дмитрий Ильич стал заниматься общественно важной деятельностью — благотворительностью. Начал выделять личные средства на обучение и воспитание детей иммигрантов, прибывших, как переселенцы, в город Таганрог и его окрестности.
В своём письме к министру внутренних дел князю
Подобные патриотические взгляды, подкреплённые реальной благотворительностью и конкретной организаторской деятельностью, вызывали понимание и благодарность окружающих, одобрение местных и центральных властей, православной церкви.
Отставного майора Алфераки, поддерживавшего связи со своей Родиной, порабощённой турками, серьёзно волновали судьбы его боевых товарищей, активно участвовавших в боевых операциях первой Архипелагской экспедиции русского флота в Средиземное море в ходе русско-турецкой войны 1768−1775 годов, оставшихся на родине, в Греции, и подвергавшихся преследованиям турецких властей после окончания войны и ухода русского флота на Балтику, в места постоянного базирования.
Именно поэтому он 30 сентября 1803 года пишет письмо министру внутренних дел Российской империи князю
Данное предложение было изучено, рассмотрено и обсуждено в самых высоких государственных инстанциях. Об этом можно судить, изучив дело № 216, сохранившееся в фонде 383 Российского государственного исторического архива (РГИА).
Вместе с тем, в своем письме князю
«…разбирательство споров и распрей препоручить учрежденному в Таганроге греческому магистрату…;
«…подати расположить с них (греков-архипелагцев — Ю. П.), за прошествием льготных лет, не от душ, а от семейств, как пользуются в России Мариупольские греки…»;
«…На основании 11 и 13 пунктов Рескрипта (Екатерины II от 28 марта 1775 года — Ю. П.) уволить их (греков-архипелагцев — Ю. П.) навсегда от постоев войск в их жилищах, кроме дачи квартир проходящим воинским командам».
Данные и другие предложение Дмитрия Ильича и, несомненно, неоднократно повторенные многими просителями-греками, были учтены властями и постепенно реализовывались в начале XIX столетия рядом конкретных государственных актов, документов. Так, например, в заключении Государственного Совета от 17 июня 1812 года было записано: «…грекам, кои пожелают воспользоваться дарованною им льготою (данной в 1775 году), предоставить свободу выйти из тех состояний, в кои они по принуждению записались, обязать их в прочем платить положенные на них по пяти рублей с семейств».
Именным Высочайшим указом от 18 июня 1808 года было подтверждено: «…заселенный оными греками участок земли в количестве удобной 11994 десятины и неудобной 3951 десятины Всемилостивейше пожалованы оным грекам… (названным выше указом — Ю. П.)… в вечное и потомственное владение».
Исследование жизни и деятельности греческого патриота, активного борца за свободу и независимость Греции Алфераки, который в составе воинов Албанского (Греческого) войска, после заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора, покинул свою Родину — Грецию, переселился в Крым, в Керчь-Еникале, и окончательно осел в районе города Таганрога, позволяет сделать следующие обобщения и выводы:
Исследование проведено на основе немногочисленных и скудных по содержанию архивных документов, которые хотя и поверхностно, но всё же позволили в самом общем плане проследить жизнь и деятельность грека Дмитрия Ильича Алфераки, выходца из богатой и влиятельной, облеченной властью семьи, начавшего активную вооруженную борьбу против османского ига, за освобождение своей Родины, примкнувшего к русским войскам, высадившимся в Мореи;
Его имя, ратные и повседневные дела вошли в историю России, стали известны потомкам только благодаря его письму от 30 сентября 1803 года в адрес министра внутренних дел Российской империи князя
Россия весьма доброжелательно принимала бывших воинов-архипелагцев. Учитывая их боевые заслуги в ходе русско-турецкой войны 1768−1774 гг., заслуженно выделила им земельные наделы, установила значительные льготы и преимущества;
Большинство греков-переселенцев с благодарностью восприняли материнское отношение к ним Российского государства, достигло взаимопонимания не только с высшими и местными властями, но и с местным населением, простыми людьми в районах их поселения. Действительно, здесь не отмечалось серьёзных межнациональных и религиозных конфликтов;
Молодой волонтёр-грек, отлично зарекомендовавший себя в боях с турками, умело руководивший своим отрядом в 200 человек, завоевавший уважение и заслуженный боевой авторитет, был вынужден покинуть Элладу и навечно поселиться в России, ставшей его второй Родиной. Здесь он принял Присягу на российское подданство и стал российско-подданным, успешным землевладельцем, получил чин майора, российское дворянство, дважды избирался уездным Дворянским собранием — Ростовским предводителем дворянства и весьма успешно и с честью выполнял многочисленные служебные обязанности на этой непростой и хлопотливой должности.
Можно заключить, что отставной майор Дмитрий Алфераки не сожалел о своём переезде в Россию, был доволен своей жизнью и деятельностью в Таганроге, своей удачно сложившейся судьбой, хотя никогда не забывал о своей угнетенной Родине — Греции. Помнил своих родных и близких в Мореи и не скрывал этого. Всегда был и оставался настоящим греческим патриотом, инициативным, нравственным и законопослушным российским подданным, полюбившим свою вторую Родину, её народ. Оценивая свою неординарную жизнь и судьбу, грек Алфераки, думается, вполне обоснованно и искренне заявлял: «…Считаю состояние моё под царствованием Всероссийских монархов наиблагополучнейшим».
Ю. Д. ПРЯХИН, доктор исторических наук, профессор, академия ВМФ РФ, Санкт Петербург
Используемая литература, материалы:
- Статья выполнена при поддержке РГНФ (грант № 10−01−00630а/Г «Общие страницы военно-морской истории России и Греции
в XVII—XIX вв. ») - Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 383, оп. 29, д. 216, л. 3.
- Тарле
Е. В. Чесменский бой и первая русская эскадра в Архипелаг (1769−1774). М., 1945. С. 34; АлександровВ. Б. Россия и Греция. Путешествие в историю. М., 1996. С. 4−5. - Флот Российской империи. СПб., 1996. С. 84; Роль и значение флота России в борьбе за независимость Греции. СПб., 2000. С. 33−38; Русские и советские моряки на Средиземном море. М., 1976. С. 44.
- РГИА, ф. 383, оп. 29, д. 216, л. 3; Флот Российской империи. СПб., 1996. С. 83.
- Российский государственный военный архив (РГВИА). Ф. 52, оп. 1, д. 101, ч. 11, л. 18.
- РГИА, ф. 383, оп. 29, д. 254, л. 25; Записки Одесского общества истории и древностей (ЗООиД). Одесса, 1844. Т. 1. С. 217.
- РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 202, ч. 3, л. 1−2; ЗООиД, Т. 3. Одесса, 1872. С. 210.
- РГИА, ф. 383, оп. 29, д. 216, л. 4; д. 927, л. 37; д. 906, л. 2; ф. 1286, оп. 1, д. 146, л. 47−48.
- Известия Таврической учебной архивной комиссии (ИТУАК), № 10. Симф., 1890. С. 124.
- РГИА, ф. 383, оп. 29, д. 216, л. 1−4.
- Там же, л. 1.
- Там же, л. 4.
- Там же, л. 5; РГИА, ф. 571, оп. 1, д. 1356, л. 26, 29.